Алексей Москалёв: «Старение – не обособленный процесс, а совокупность взаимосвязанных биологических каскадов, среди которых выделяются хроническое воспаление, гликирование и окислительный стресс»

Смомента своего основания (70лет назад) наш журнал писал о долгожителях, делая акцент на условиях и образе их жизни. Что сейчас известно о природе долголетия?
Наука всё ближе подбирается к ответу на один из главных вопросов о жизни: можно ли унаследовать долголетие? Годы изучения модельных организмов – от дрожжей и червей до мышей и обезьян – позволили выявить более 2200 генов, которые оказывают влияние на продолжительность жизни. Некоторые из них при мутациях способны продлить жизнь лабораторных животных в 6 раз, в зависимости от вида. Но ключевые гены долголетия не только консервативны, но и тесно связаны с человеческими заболеваниями старения – атеросклерозом, диабетом 2-го типа, раком и болезнью Альцгеймера. Эти же гены участвуют в механизмах окислительного стресса, воспаления, клеточного старения – универсальных признаков стареющего организма.
Традиционно считается, что наследуемость продолжительности жизни у человека составляет около 25% – эта оценка основана на данных о близнецах. Исследование 2025 года показало, что наследуемость продолжительности жизни может достигать 50%, особенно в благоприятных условиях. Для семей долгожителей вероятность наследовать долголетие составляет до 33% у женщин и 48% у мужчин.
Интересно, что образ жизни долгожителей не сильно отличается: уровень потребления алкоголя, табака и физической активности у них в целом сравним с остальными людьми. Поэтому предполагается, что гены, регулирующие устойчивость к стрессам, у них работают более эффективно, компенсируя вредные факторы внешней среды. Существует гипотеза так называемой демографической селекции: люди, унаследовавшие аллели, повышающие риск хронических заболеваний, редко достигают преклонного возраста. В то же время носители «защитных» вариантов генов чаще становятся долгожителями, а у некоторых долгожителей можно обнаружить «вредные» аллели. Но в их геноме присутствуют редкие компенсаторные мутации, нейтрализующие вредный эффект. Эти гены служат промежуточным звеном сигнального пути – молекулярного каскада, участвующего в регуляции продолжительности жизни от нематод до человека. Несмотря на десятилетия поисков, ни один «универсальный» ген долголетия найден не был. Это изменило направление исследований. Вместо поиска общих вариантов современные учёные сосредоточились на глубоком секвенировании (процессе определения последовательности нуклеотидов в молекулах ДНК) семей долгожителей, где с высокой вероятностью наследуется способность к здоровому старению. Выяснилось, что в таких семьях чаще встречаются редкие функциональные мутации в генах, связанных с ключевыми регуляторами клеточного роста, метаболизма и выживания.
Как заметил древнеримский автор Луций Цестий Пий: «Мы рождаемся одинаково, но умираем по-разному». В случае долголетия у каждого может быть свой уникальный генетический маршрут, и понимание этих маршрутов – дело будущего.
Справедливо ли утверждение «маленькая собачка – всегда щенок», связана ли продолжительность жизни с гормоном роста?
Оказывается, в животном мире размер действительно имеет значение. У собак, например, обнаружена выраженная корреляция между массой тела и продолжительностью жизни – чем меньше порода, тем дольше живёт пёс. Это наблюдение подтверждено данными на десятках тысяч особей. Такое соотношение выходит далеко за пределы кинологии – оно связано с фундаментальной эндокринной осью, регулирующей рост и метаболизм: гормон роста (GH) – инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF-1).
Эксперименты на лабораторных мышах показали: генетическое снижение активности GH/IGF-1 приводит к карликовости, но при этом существенно увеличивает продолжительность жизни, снижает риск опухолей, диабета и воспаления. Другими словами: устранение избытков гормона роста или повышение чувствительности тканей к нему заставляет организм медленнее стареть. Один из самых поразительных примеров в природе – летучая мышь Брандта. С массой тела всего 8 граммов она может прожить до 41 года – это абсолютный рекорд для млекопитающих такого размера. В пересчёте на «весовые коэффициенты» она живёт в 10 раз дольше, чем ожидалось бы по её размерам. В своё время мы с коллегами (включая специалистов из Института биологии Коми НЦ УрО РАН, Института генома Пекина и Гарвардской школы медицины) расшифровали геном и транскриптом (функциональную активность клеток) этого животного. В результате была обнаружена уникальная генетическая особенность: мутации в генах рецепторов GH и IGF-1. Они, вероятно, обеспечивают комплексную защиту от старения, одновременно ограничивая рост тела.
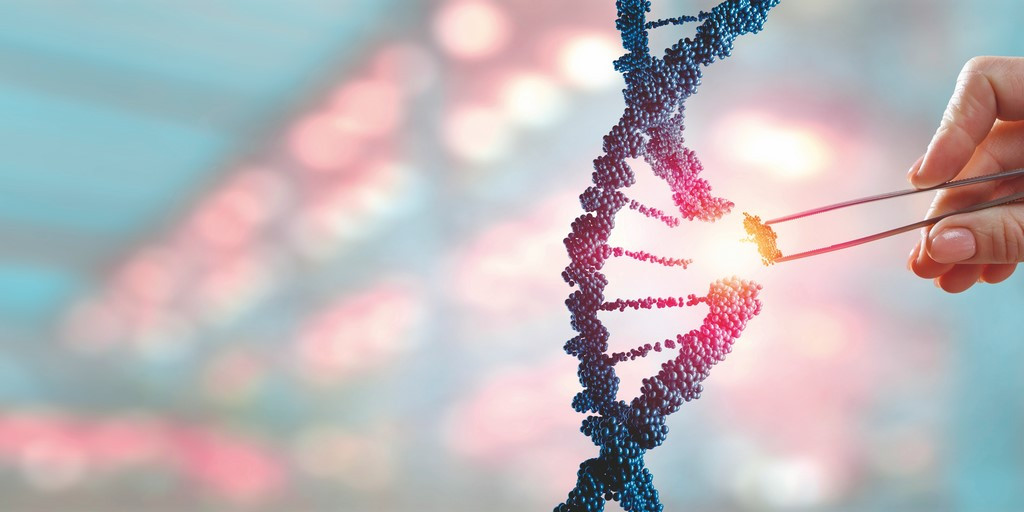
У человека также существует уникальная модель – пациенты с синдромом Ларона. Это редкое наследственное заболевание, при котором рецептор к гормону роста (GHR) не работает. В результате карликовый рост (менее 130 см) и крайне низкий уровень IGF-1. Исследования людей с этим синдромом показали, что у них практически отсутствует диабет 2-го типа и рак. Они также реже страдают от инфарктов и инсультов. Однако у синдрома есть и обратная сторона. Из-за очень низкого роста и связанных с ним проблем такие люди чаще погибают от несчастных случаев, депрессии, социальной изоляции и алкоголизма. Самый пожилой известный пациент с синдромом Ларона погиб в возрасте 86 лет, попав под машину. Размер тела и активность гормона роста действительно влияют на продолжительность жизни и у животных, и у человека. При этом низкий GH/IGF может защищать от старения, но сопряжён с физиологическими издержками. Задача науки – понять, можно ли использовать эти защитные эффекты без побочных последствий. Здесь стоит отметить приобретающие всё большую известность препараты для повышения чувствительности к инсулину, некоторые из них снижают риски общей смертности и вероятность умереть от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. При этом требуются дальнейшие исследования, особенно если рассматривать профилактическое их использование. Не надо забывать, что любое сильнодействующее лекарство имеет выраженные побочные действия.
