«Мозг – самый важный орган»
Что такое память? Где она «хранится»? Почему мы помним не всё? Можно ли перенести память? А расширить ее? Каким образом она связана со временем? На все эти вопросы пытается ответить Павел Милославович Балабан, академик РАН, научный руководитель Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.
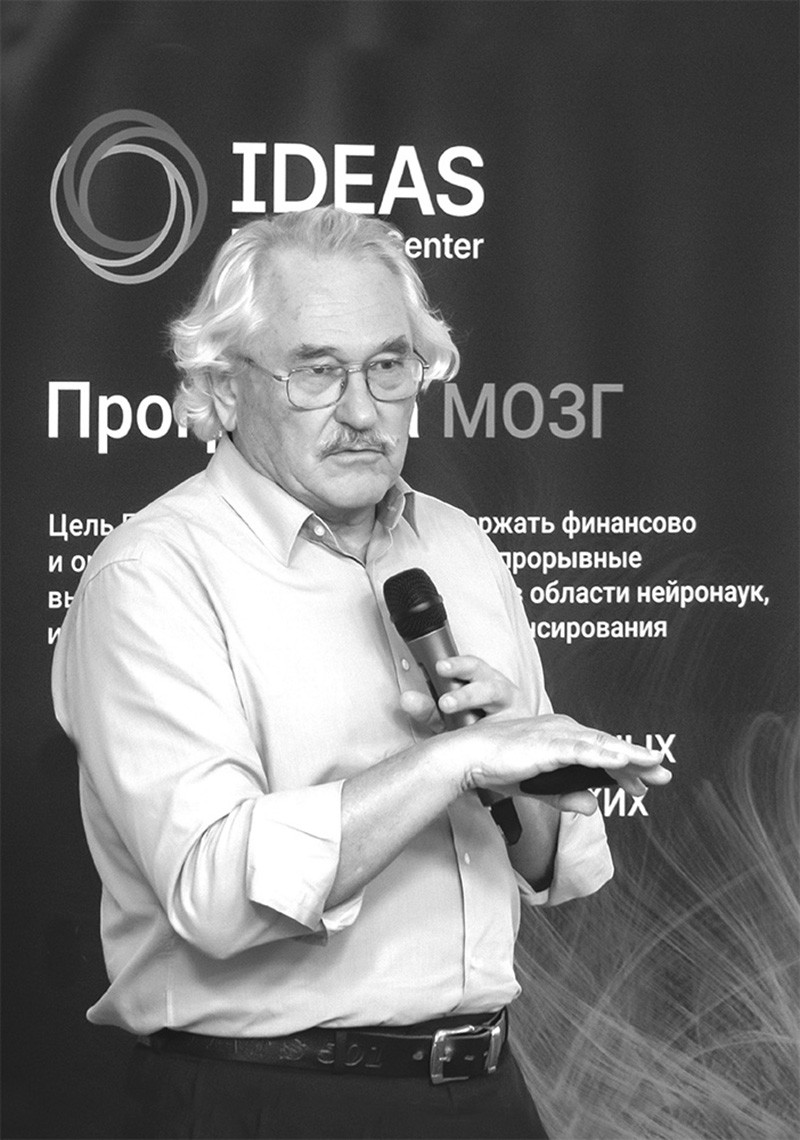
«Знание – сила»: Павел Милославович, вы ведь одним из первых заговорили о связи памяти и фактора времени. Почему это важно?
Павел Балабан: Если заглянуть в интернет, вы увидите десятки классификаций памяти. Все они имеют какие-то основания, каждое отражает что-то конкретное, важное, но никто нигде не пишет, что память развивается во времени. Хотя все мы знаем, что есть долговременная память. Различают long-lasting и long-term, то есть часы и месяцы, месяцы и годы. Также выделяют кратковременную память, которая длится минуты, и промежуточную память. Но мало кто говорит о том, что обучение – это процесс формирования адаптивных изменений в нервной системе, а память – это результат обучения. По сути, это механизм адаптации организма, необходимый для выживания. Больше ничего за словом «память», я считаю, не стоит. Этот процесс бывает в разных формах, но по сути это означает только одно: нервная система пытается идти по пути минимализации.
«ЗС»: Есть ли механизмы адаптации у простейших, одноклеточных?
П. Б.: Это один из важнейших для меня вопросов. Давайте посмотрим на поведение инфузории, у которой есть все органы восприятия, движения, сенсорики. Они продуцируют серотонин – не знаю, для чего, и никто не знает. У них есть оружие – стрекательные органы, с помощью которых они защищаются. Их движения похожи на танец. Для чего нужен танец? Каждая девушка скажет: для удовольствия. Если мне кто-то возразит, что это не когнитивные процессы, я не соглашусь. В каком-то смысле их можно рассматривать так. У нее есть все виды адаптации, иначе она не прожила бы многие сотни миллионов лет. Но у нее нет нервной системы. И она прекрасно без нее обходится.
Еще одно животное, принадлежащее к особому типу: трихоплакс, донервное пластинчатое животное. Это три тысячи клеток, маленьких, пятьшесть микрон, которые собрались вместе и ползают. У этого животного есть дорзальная и вентральная стороны. Если его перевернуть, оно доползает до ближайшего препятствия, опирается и переворачивается. У него есть, кроме ползания, «танец живота».
«ЗС»: Что это такое?
П. Б.: У них есть специфические клетки, часть которых служит желудком: они наползают на пищу, выбрасывают туда ферменты и ползают круговыми движениями, которые по частоте очень похожи на медленный танец живота. Таким образом они питаются. У них есть даже социальное взаимодействие: если их много в одной чашке Петри, они не мешают друг другу, не наползают – они выстраиваются линией и идут искать пищу.
Почему они интересны? Оказалось, что, хотя у них нет нервных клеток, в геноме у них шесть видов натриевых каналов, которые есть в нейронах, и они необходимы для потенциала действия. В одной из наших статей мы показали, что это замечательный пример эволюции, и на этом примере можно сделать очень много интересных эволюционных исследований. Наличие таких животных привело к появлению статей, где ставится вопрос: необходима ли нервная система для обучения и формирования памяти? Однозначного ответа на этот вопрос пока не знает никто.
«ЗС»: А что с переносом памяти?
П. Б.: Учитывая, что какие-то виды памяти есть у самых простых животных, в истории исследований было довольно много попыток перенести память. Многие слышали о попытках 1960—70-х годов Джеймса МакКоннела обучить планарий. У них негативный фототаксис, они демонстрируют довольно четкие изменения в поведении, которые легко измерить. Поэтому он разрезал планарию. У нее есть головной конец, окологлоточное кольцо в голове и несколько ганглиев вдоль тела. Они обладают очень быстрой регенерацией, 10—14 дней. Мысль у него была попробовать определить, где у нее находится память: в головном конце или в хвостовом.
Оказалось, что через 14 дней обе группы, которых он очень много порезал, совершенно одинаково демонстрируют, что у них есть память. Чтото передалось через хвостовой конец, и это достаточно странно. Тем не менее Джеймс Мак-Коннел считал, что память передается с помощью РНК – тогда появились первые данные об ее структуре. Потом он разрезал на кусочки обученных планарий и скармливал необученным планариям, и они обретали свойства, похожие на память1. Были еще попытки перенести память с помощью пептидов – все они были неудачными.
1 Многочисленные попытки воспроизвести опыт в других лабораториях, в том числе и прямыми инъекциями РНК, не давали никаких устойчивых результатов, и репутация Мак-Коннелла оказалось сильно подорванной (Прим. ред.).
В последующие десятилетия переносом памяти никто не занимался, пока биолог из Лос-Анджелеса Дэвид Глянцман не опубликовал в 2018 году статью, которая называется «РНК обученных аплизий может индуцировать работу эпигенетической энграммы в долговременной сенситизации у необученных». Если попросту, он бил током этих слизняков, и они надолго запоминали, что в некоторых условиях им неприятно, и потом около двух недель они четко помнили, что их били током. Он брал у них гемолимфу и впрыскивал необученным, и они показывали такие же данные. Аплизию чаще всего применяют в науке из-за того, что у нее около 12 тыс. нейронов, их них около 800 известны «в лицо», их можно выделить, поместить в чашку Петри, где они образуют контакты с уже хорошо известными свойствами. Эти свойства меняются при обучении, когда бьют по хвосту или сифону током. Он налил вытяжку из обученной улитки и получил точно такие же изменения, которые регистрируются при обучении.
Но Дэвид Глянцман схитрил: он убрал все белки из раствора гематоэнцефалической жидкости, которая омывает мозг. Он повторно брал эту жидкость у обученных животных и вводил другим, и результаты стали стабильно повторяться. При этом он считал, что действует микро-РНК, которая очень стабильная, передает какую-то информацию, и это не память, а регуляторные влияния. По его мнению, это какие-то эпигенетические влияния (без изменения генома), которые могут варьировать уровень экспрессии генов, и это внешне, феноменологически, приводит к изменениям в нервной системе, которые классифицируются как такой же результат, как при формировании памяти. Замечу, что здесь время – часы и дни. После инъекции нужно подождать 24 часа, чтобы это сработало.
«ЗС»: Правда ли, что память формируется в синапсах?
П. Б.: Да. Мы неизбежно выходим на уровень анализа связей между нейронами – это и есть синапсы. Они очень пластичны – вырастают и исчезают. Их можно исследовать современными методиками, можно увидеть рост во время обучения, и поначалу считалось, что именно в это время их количество всегда увеличивается. Потом оказалось, что даже ночью, когда мы спим, их в некоторых местах становится больше, а в некоторых – меньше. А утром все возвращается назад. С обучением все непросто: в какой-то области, в том же гиппокампе, увеличилось количество синапсов, потом ждут несколько дней, и плотность синапсов становится примерно той же. Все возвращается к среднему, и это правильно: если бы все дело было в изменении размера или количества синапсов, то очень быстро дошло бы до какого-то максимума, где-то – до минимума. Значит, должны быть сдерживающие механизмы. Но в синапсах что-то должно оставаться. Локальные изменения должны где-то храниться, раз мы помним годами что-то, и это хранится в синапсах.
«ЗС»: Что же в синапсах отвечает за сохранение памяти?
